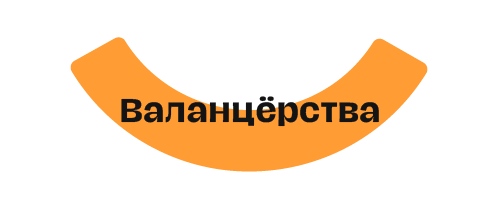Акихиро Гаевскому-Ханаде — 25 лет. Почти пять из них он провёл в беларусской тюрьме. Как ощущаются важные для становления личности годы в изоляции со случайными людьми? Каким образом заключение меняет ощущение себя и своих ценностей? «ІншыЯ» расспросили Акихиро о том, как его изменил тюремный опыт.
«Выглядишь не как беларус. Ты вообще знаешь, что это за символика?»
— У тебя довольно необычная внешность и корни для жителя Беларуси [отец Акихиро — беларус, мама — японка. — прим. ред.]. Наверняка в течение жизни ты сталкивался с какими-то реакциями по этому поводу.
— Бо́льшую часть времени в детстве я провёл в Беларуси. Не знаю, как сейчас, но в нулевых азиатов в стране было немного. Это могли быть люди из Восточной Азии, из Китая — и на этом всё. Поэтому люди на улице или посторонние сразу называли меня китайцем. В детстве меня это всегда бесило.
Хотелось подойти и объяснить: «Я не китаец, я японец, это разные вещи». Но таких ситуаций было так много, что в какой-то момент выработался иммунитет.
С другой стороны, прямого расизма, связанного с нападками из-за внешности или происхождения, я, наверное, не встречал. В основном это было невежество, предрассудки, которых у разных людей много. Кто-то стесняется их высказывать, кто-то — нет. Стандартный набор вопросов про Японию, японскую культуру стал для меня привычным. Но открытого расизма в мою сторону почти не было.
Помню такой случай: мы шли с моим знакомым, у него была бело-красно-белая ленточка, я тогда ещё учился в школе. До нас слегка «докопались» и стали поддевать меня: «Ты выглядишь не как беларус. Ты вообще знаешь, что это за символика, её историю?» А я как раз неплохо разбираюсь в этих вещах. Когда я объяснил это, они сказали: «Ну ладно. Мы просто периодически видим, что носят символику и не знают, что это такое». Это был исключительный случай, скорее, забавный.
Беларусы, видимо, действительно достаточно толерантные. В детстве внешность даже помогала мне социализироваться: ты привлекаешь внимание, и если ведешь себя адекватно, люди тянутся к тебе, это облегчает коммуникацию.
Когда я бывал в Японии, уже в подростковом возрасте, моя инаковость не вызывала большого интереса у сверстников. Многие понимали, что я не до конца «свой», но расспросов почти не было. Им не так интересно: ты другой — и всё. А беларусам, наоборот, всем любопытно.
И всё равно, поскольку я больше времени проводил в Беларуси и ментально больше находился в беларусском окружении, я чувствовал себя там более комфортно, чем в Японии. Хотя многие подмечают, что у меня есть черты, якобы связанные с японским менталитетом.
— Какие, например?
— Спокойствие, неэмоциональность, меня трудно вывести из равновесия. Многие склонны это списывать на менталитет. Я не знаю, так это или нет — может, сыграли роль характер родителей или воспитание. Для людей это просто удобный способ объяснить что угодно: менталитет, культура и так далее.
«Беларусские тюрьмы — это ужас для иностранцев»
— Хоть ты и не сталкивался с откровенной ксенофобией или расизмом на воле, но мир всё же полон дискриминации. Особенно концентрированной она может быть в тюрьме. Там, с одной стороны, все уравнены и одинаковы, а с другой — это вынужденное скопление очень разных людей, которые не оставляют за дверями тюрьмы свои представления о мире, о других национальностях и так далее. Как тебе кажется, такие условия усиливают подобное поведение со стороны других заключённых или тюремщиков? Или наоборот, уравниловка подавляла проявления инаковости и нападки на идентичность?
— Это очень индивидуально. Даже в системе тюремных понятий есть правило, что в тюрьме нет национальностей, и формально тебе не должны предъявлять никаких претензий или вопросов, связанных с происхождением. Но насколько это работает, сложно сказать. На бытовом уровне и у заключённых, и у тюремщиков всё равно проявляется чувство «экзотичности», что приехал кто-то необычный.
Особенно я это почувствовал в шкловской колонии. В минском СИЗО всё-таки столичная обстановка, там бывает много иностранцев, и персонал к этому более привык. А в колониях таких случаев меньше. И в шкловской колонии я сразу почувствовал реакцию: «О, приехал японец!» Для большинства я был как экзотический объект наблюдения.
Для некоторых, более идеологически настроенных или предубеждённых, все твои идентичности складывают в «бинго»: что ты экстремист, что ты анархист, что ты иностранец. И начинается: «А, ты иностранец, жил в нашей стране, и тебе ещё не нравилось? Надо было уезжать! Вали в свою Японию!» Такое тоже встречал. Не могу сказать, что часто, но бывало. В целом для большинства работников тюремной системы более характерно равнодушие. Открытая ненависть встречается реже. У сотрудников ГУБОПа — да, у них полно вот этого: «иностранец», «узкоглазый», «жёлтый» и так далее. Им нравится за это цепляться.
Это не столько расизм, сколько тупое невежество. Ведь внешность — это самое простое, к чему можно придраться.
Но бывали и более жёсткие случаи. Слышал про эпизод, когда африканца избивали в могилёвской колонии с криками, что он «обезьяна», «н*гр». Конфликт был спровоцирован не этим, но в момент избиения проявилось такое отношение. Так что всё бывает очень по-разному.
— То, что ты описываешь про неразличение азиатских народов, — это похоже на ситуацию, с которой беларусы сталкиваются за границей. Где-нибудь в Южной Европе, когда говоришь, что ты из Беларуси, тебе отвечают: «А, Россия». То есть всех восточных славян воспринимают априори как русских. Получается, нам тоже в какой-то мере знакомо это чувство.
— В тюрьме я кем только ни был. Чаще всего — «казахом». Помню, в минском СИЗО сидели два китайца за сутенёрство, и когда мы ехали на суды и они меня видели, то всегда махали мне рукой, будто бы мы земляки. Помню, у моего подельника сокамерник-казах спрашивал: «У тебя по делу проходит казах, узнай, из какого он города». После этого все начали подписывать мне тюремную переписку как Казаху.
И в камере то же самое: приходит новый человек, видит меня: «О, ты из Узбекистана?», «О, ты из Таджикистана?» Я относился к этому с юмором. И чувствовал необходимость поддерживать иностранных заключённых, потому что беларусские тюрьмы — это ужас для иностранцев. Особенно для тех, кто вообще не жил в Беларуси и не знает языка. Для них не сделано ничего, чтобы хоть адаптироваться или решать бытовые вопросы.
Когда я видел иностранцев, пусть у нас и разный бэкграунд, я чувствовал больше понимания, больше ощущения, что им надо помогать. Так получалось, что и люди тянулись ко мне — видели человека, который, наверное, чуть лучше может понять их внутреннее состояние, даже если мы из совершенно разных культур.
Мне особенно запомнился парень из Ганы. Он приехал в Беларусь, поступил в медицинский университет, и по контракту ему нужно было привезти сумму наличными в долларах. Часть этих денег, которые он обменял в Гане, оказалась фальшивой. Его посадили в Жодино на пару месяцев, потом он приехал в минское СИЗО, и я встретил его на так называемых отстойниках на судах.
Перед судом я вижу: парень сидит, у него старый календарь на английском языке, с каким-то ганским проповедником. А на улице уже 2022 год. Ему оказалось всего 18 лет. Видно, что он ребёнок-ребёнок. Говорит: «Я никогда не выезжал из Ганы. Я поступил, мои родители не знают, где я. Я не знаю русского языка. В Жодино в СИЗО никто не говорит по-английски». Он, конечно, был в шоке.
При этом, сравнивая ситуацию в Гане и Беларуси, я был удивлён, что их оставшиеся колониальные институты во многом работают эффективнее, чем беларусские. И уровень демократии у них, скорее всего, выше, чем в Беларуси.
Хотя существует расхожее мнение, что «мы в Европе, у них третий мир», — но это совсем не так. Не знаю, как сложилась судьба того парня. Человека за такую мелочь можно было бы не ломать. А подобных случаев очень много.
«Чувствую себя двадцатилетним “дедом”»
— Ты попал в тюрьму, когда тебе было 20 лет, вышел через пять лет. Годы в тюрьме ощущаются как заморозка?
— Это сто процентов так. Я всё ещё чувствую себя в двадцати. Иногда думаю: мне ведь уже двадцать пять, я уже не молод. Когда узнаю, что нынешние студенты — это люди 2008–2009 годов рождения, я не могу этого осознать. Мне казалось, что это ещё маленькие дети. Поэтому психологически я чувствую себя двадцатилетним «дедом».
— По году рождения ты попадаешь в категорию зумеров. У тебя есть знакомые или друзья твоего возраста на свободе? Насколько вы разные из-за разности опыта?
— Я и раньше не так много общался со сверстниками, больше с людьми постарше. Иногда смотрю что-то в интернете и думаю: «Ох уж эти зумеры!» Но возраст 20–25 лет — это период, когда формируется идентичность человека. Понимаешь, наконец, кто ты, происходит сепарация. Если раньше у людей было меньше ответственности, они учились, то сейчас нужно работать, уходить из родительского дома. Это достаточно сложный период для многих.
— Как раз этот период у тебя прошёл в камере с ограниченным количеством людей и вынужденной коммуникацией с ними. Тебе кажется, что твоя идентичность сформировалась или что она изменилась?
— Думаю, человек — существо, которое постоянно находится в становлении. Нельзя полностью определить, на какой он стадии, он постоянно меняется за счёт своих выборов. Я надеюсь, что хоть какая-то свобода воли есть у нас всех.

Есть биологические процессы, префронтальная кора формируется к 25 годам. За счёт моего пятилетнего опыта я во многом обогатился внутренне. Но пять лет назад мне казалось, что я лучше понимаю, чем я занимаюсь и чего хочу. Сейчас у меня ещё больше выбора и интересов, но из-за этого сложнее определиться. Плюс есть общая неопределённость, которая сейчас окружает всех, и я живу больше в этом состоянии неопределённости.
«Тактильность почти исчезает»
— В документальном фильме «Радио Свобода» о женской колонии бывшие политзаключённые рассказывали, что там запрещён тактильный контакт, объятия, какая-то откровенная забота друг о друге. Это лишает людей очень естественных форм коллективных переживаний или поддержки. Ты в других интервью говорил, что администрация старается максимально подавить человеческие взаимоотношения, солидарность, взаимопомощь. Какой на тебя отпечаток наложило пятилетнее нахождение в исключительно мужском коллективе?
— Я сам по себе не тактильный человек, но на тюремном режиме, где ты постоянно с кем-то и твое личное пространство настолько сужается, что выстраиваешь своеобразный купол вокруг себя, тактильность почти исчезает совсем.
Хотя многие люди, наоборот, стараются чаще похлопать по плечу, где-то покрепче руку пожать, особенно в момент прощания. Есть люди, которые в колонии каждое утро здороваются с тобой за руку. Мне поначалу это было странно, мы же спим ежедневно в одном помещении, не расстаёмся. Но это, видимо, тоже такая попытка нормализовать положение, в котором ты постоянно в ненормальной обстановке в мужском кругу.
В «Падении» Камю была история, где главный герой попадает в тюрьму, и тюремщик объясняет, почему ему не дают видеться с женщинами: «В этом и есть наказание — что ты не можешь пообщаться с другим полом». И главный герой такой: «Хм, да, это в общем-то, разумная мера со стороны тюремщиков — так тебя ограничить». И когда я это читал, я думал: «Да, это действительно разумная репрессивная мера».
— Насколько для тебя важны романтические отношения? Тяжело ли к ним открываться после тюремного опыта? Как отсутствие доступа к романтическому общению переживалось в тюрьме?
— В 20 лет я был достаточно замкнутым, и в целом я интроверт, и даже с человеком, с которым состоял в близких отношениях, я не любил высказывать свои чувства. А эти пять лет, несмотря на ограничения, внутренний диалог продолжался, мы общались друг с другом, но мысленно.
Многие вещи я в себе структуризировал, разложил по полочкам, разобрался и, наверное, понял ценность общения с близким человеком. Поэтому мне, наоборот, после всех препятствий стало проще.
Но многие наверняка сталкиваются с проблемами, стесняются после освобождения, из-за внешнего вида и так далее. Всё очень индивидуально. Тем более что те заключённые, у кого стабильные взаимоотношения, продолжают общаться и могут встретиться на свидании. В нашем случае переписка была ограничена, а свиданий меня лишали, поэтому общение было на уровне отправленных в пространство мыслей.
«Немного поменял отношение к системе изнутри»
— Ты анархист. После 2020-го у людей в целом появилось много любопытства к анархизму и представителям этого движения, но очень часто этот интерес очень поверхностный. Что такое быть анархистом для тебя? Часто ли ты заявляешь об этой своей идентичности новым знакомым?
— Просто так с порога я обычно не говорю об этом. Не люблю, когда люди пытаются о тебе судить через рамки и категории. В тюрьме все знали о моих политических взглядах, но я часто любил в каких-то дискуссиях занимать противоположную позицию или критически разбирать аргументы людей.
Мне кажется, в этом тоже есть анархичность: когда ты не привязан крепко к догмам, у тебя нет сакральных ценностей, которые прямо незыблемы, и ты можешь критически воспринимать реальность. Для меня ценность анархизма именно в этом. Хотя, понятно, что люди разные, и для некоторых анархизм тоже становится догмой, к сожалению.
Для тюремщиков анархист — это маячок: к тебе нужно больше внимания, тебя считают радикалом. Среди политзаключённых тоже проявлялся интерес. Внутри системы сложилось мнение, что анархисты в целом стойкие и принципиальные в части уголовных дел и своей позиции. Иногда это выливалось в такие вещи: «Вы анархисты, понятное дело, вам сидеть надо по убеждениям, а мы-то что?» — в завуалированной форме. Это довольно забавно.
— Практически каждый человек, который рассказывает о своем опыте в тюрьме, отмечает, что видение мира во многом перевернулось. Кто-то начинает верить в Бога, кто-то осознаёт, что следует полностью упразднить институт тюрьмы, кто-то, наверняка, получает опыт разочарования в себе. Произошло ли что-то подобное с тобой? Были ли моменты встряски мировоззрения?
— В таких сложных обстоятельствах люди действительно во многом определяются, понимают свою сущность. Мне эта экзистенциальная идея была близка и до тюрьмы: что именно в пограничных, кризисных ситуациях люди по-настоящему показывают, насколько они свободны, насколько они готовы быть собой и оставаться при своих убеждениях, принципах, есть ли у них ценности или нет, или они готовы поступиться ими или другими людьми. Для меня лично это тоже было важно. Ещё до посадки я ждал своего первого задержания и понимал, что если я через это пройду, то сам для себя убежусь в том, что я способен выстоять и остаться человечным, остаться верным своим друзьям, товарищам, принципам, что я через них не переступлю.
И эта настройка, которая сформировалась ещё до посадки, мне во многом помогла. У меня были определённые красные линии. Ну а с другой стороны, я немного поменял отношение к системе изнутри.
Я увидел людей оттуда как отдельных представителей, которые не являются злодеями, что тебя ненавидят и хотят тебя поломать.
До 2020-го я в основном сталкивался с конкретными людьми, которые по тебе работают. А когда я увидел простых людей внутри системы, оказалось, что всё не так плохо. В других обстоятельствах эти люди будут совсем иначе себя вести и другими делами заниматься.
Поэтому идея упразднения тюремной системы в том числе важна для того, чтобы вот эту часть людей, которые портятся, будучи тюремщиками и так далее, извлечь из этого порочного круга. Наверное, это самое основное, что во мне изменилось.
Авторка: Валерия Хотина
Статья создана в рамках проекта, который реализуется при поддержке Европейского молодёжного фонда Совета Европы