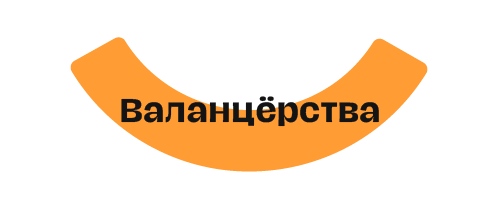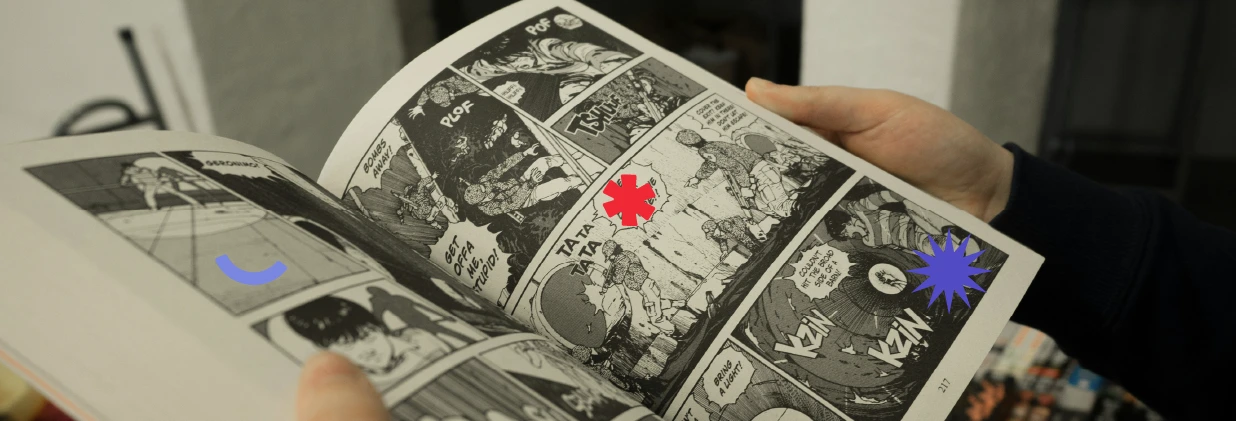В Беларуси Анжелика Аношко долгие годы была главой правления общественной организации «Взаимопонимание», созданной после того, как Беларусский республиканский фонд «Взаимопонимание и примирение» свернул деятельность (именно он отвечал за выплату немецких компенсаций жертвам национал-социализма). Переехав в Литву, Анжелика стала директоркой общественного учреждения «Формула человечности», которое работает по трем направлениям: содействие примирению сообществ после конфликтов, преодоление советского прошлого и развитие культуры памяти, строительство беларусского общества на основе прав человека. Мы поговорили с Анжеликой о том, что, кроме пенсий, интересует пожилых людей, чем опыт старших может быть полезен молодежи, что не так с «уроками мужества» в школах и почему невозможно построить ответственное будущее, не разобравшись с неудобным прошлым.

— Еще в Беларуси нам хотелось, чтобы мы не просто раздавали узникам деньги, подгузники, лекарства и организовывали мероприятия для настроения и образования. Нам хотелось, чтобы были также мероприятия, которые позволяли бы общественности взглянуть на историю Второй мировой войны и судьбы узников нацизма под другим ракурсом, не только так, как мы привыкли и как предлагает нам официальная государственная политика памяти. И чтобы праздники, которыми в Беларуси отмечают события, связанные со Второй мировой войной, проходили иначе, с меньшим пафосом и официозом и с большей человечностью.
Мы видели, что история Второй мировой войны не вызывает интереса у людей третьего поколения (второе поколение — дети свидетелей, третье — внуки, не получившие знаний о войне непосредственно от тех людей, которые ее видели). У молодежи другое понимание. Это примерно как для меня Первая мировая война: ты просто знаешь, что она была, и всё. А мы хотели, чтобы людям стало интересно воспользоваться возможностью поговорить с живыми свидетелями. И хотя более-менее свободные подходы к этой теме в Беларуси были рискованными, кое-что нам удавалось. Мы даже организовали дискуссию о том, как праздновать 9 Мая.
Как история семьи подтолкнула к делу жизни
— Мой дедушка в годы Второй мировой войны был вывезен в Германию на принудительные работы. Деревня, где он жил, в первую же неделю войны была оккупирована. Мама рассказывала, что дедушку призвали в армию, но он не успел попасть в ее ряды из-за окружения и вернулся в деревню к жене и троим детям — моей маме, тете и дяде. Деревня была в партизанской зоне. Настал день, когда всех жителей построили перед дулами автоматов, чтобы расстрелять. Однако в последний момент поступил приказ отменить расстрел и погнать жителей на железнодорожную станцию, чтобы отправить в Германию. Деревню подожгли.
Когда колонна шла через лес, в горящей деревне оставался двухлетний брат моей матери. Бабушка, конечно же, очень переживала, она просила конвоиров отпустить ее обратно, чтобы забрать сына с собой. Один из немцев сказал: «Иди спроси у начальника колонны. Если он разрешит, я тебя отпущу». Она на какое-то время отошла, а затем вернулась и сказала, что ей разрешили. И конвоир отпустил ее с дочерьми. Я уверена, что он понимал: ничего ни у кого моя бабушка не спрашивала и в эту колонну она больше не вернется. Он ее спасал. Это была первая неожиданность про войну для меня в детстсве, когда в книгах я читала только об ужасах и кровавых наклонностях немцев. Впервые я услышал о немце, который был другим.
Была и вторая неожиданность в этой истории. Дед оказался в Германии на принудительных работах в сельском хозяйстве, и хозяева земли относились к нему очень хорошо – по сравнению с другими историями узников. Дедушка работал в поле, но это была почасовая работа, без переработок. На поле приносили кофе и еду. Условия были хорошие. При этом его семья в Беларуси осталась без дома и вообще без всего и до конца войны была вынуждена проситься к другим людям, не всегда получая теплый прием. Им пришлось пройти через голод и другие испытания. Но все выжили, и дедушка вернулся — да еще с красивыми подарками.
Поэтому история Второй мировой войны для меня с детства была очень разной. Был ракурс героизма, созданный пропагандой, но была и личная история. И когда уже во взрослой жизни я узнала, что фонд «Взаимопонимание и примирение» ищет юриста, меня в первую очередь заинтересовало его название.
В итоге я проработала в фонде с декабря 1994 года по октябрь 2008-го. Много лет, много историй, много людей. Я получила доступ к архивным документам и в первые месяцы работы понимала, что пора обедать, только когда слышала звон ложек в чашках с чаем. Когда деятельность фонда свернулась, мы с коллегами решили продолжать нашу работу и создали общественную организацию.
«Людям нужны не только деньги»
— Сначала люди требовали исключительно денег. Им предлагали выплаты, и они за них бились: нужно было доказывать, что они пострадали, искать архивные документы, не всегда эти документы находились, тогда приходилось идти в суд, чтобы доказать свое право. Даже сейчас, когда выплаты закончились, если спросить их, что им нужно, первое, о чем они скажут, — у них маленькая пенсия и им нужны лекарства.
Но когда начинаешь разговаривать и что-то предлагать, то понимаешь, что на самом деле проблемы только деньгами не решаются. За многие годы люди получили значительные суммы, но эти суммы никак не повлияли на их жизнь.
Мало кому даже удалось рационально этими деньгами распорядиться. Ключевая проблема лежала не на поверхности. Кто-то живет в одиночестве. Кто-то глубоко обижен, и ему нужно выговориться и увидеть, что его слушают. На самом деле, мы не сразу это поняли.
Понять помогли немецкие партнеры, которые финансировали проекты. По итогам конкурса мы получили от немецкого фонда программу «Место встречи: диалог», направленную на преодоление одиночества, досуговые проекты, встречи, образовательные мероприятия. И пока мы работали в этой программе, мы многое узнали о том, что для людей значит, когда на них не ставят крест. На самом деле людям нужны не только деньги. У них остаются свои интересы и потребности, и важно создать условия, в которых люди смогут до последнего дня оставаться самостоятельными в принятии решений, несмотря на возраст и судьбу.

Аншлаг на мероприятии про секс в пожилом возрасте
— Сначала узники просто приходили к нам на мероприятия, а мы предлагали им разные развлечения и занятия. Спустя год они начали помогать в организации и предлагать что-то свое. В конце второго года мы предложили им самим организовать себе экскурсию. И они поехали в Питер. Вернулись оттуда очень уставшие, но и очень счастливые. Хотя многие из них и раньше бывали в Питере, но было круто, что несмотря на все сложности они сделали почти всё сами.
Потом они сказали, что им нужны волонтеры, потому что среди узников много людей, которые не могут передвигаться самостоятельно. Мы предложили им самим стать первыми волонтерами, и у нас получилось объединить узников, которые помогали другим узникам. Мы создавали комфортные условия, чтобы они жили недалеко от подопечного и чтобы у них были общие интересы. Так заработали пары, после чего стали присоединяться и другие люди.
Затем мы пригласили профессиональную художницу, которая занималась с узниками скрапбукингом, рисованием на стекле, различным прикладным искусством. У них получались красивые вещи, и они дарили их маломобильным людям, которых посещали. На каком-то этапе художница сказала, что хватит заниматься прикладным творчеством, — и они начали писать картины. Благодаря этой самореализации они начали раскрывать в себе новые возможности.
Если ты создаешь для людей атмосферу, где нет пафоса и не нужно включать самоконтроль и самоцензуру, то люди начинают раскрываться.
В 2018 году мы вместе с другими организациями, занимающимися системной поддержкой пожилых людей, мы хотели вывести всё, что мы наработали, на государственный уровень, чтобы интегрировать это в систему социальной поддержки. В 2019 году мы организовали Форум достойного долголетия совместно с Министерством труда социальной защиты. Мы стремились сломать стереотипы о пожилых людях. Мы хотели показать обществу и государственным социальным службам, что люди в любом возрасте остаются живыми людьми со своими потребностями и желаниями. Не нужно делать из них недееспособных и не нужно обесценивать их жизненный опыт. Одна из секций этого форума была посвящена сексу в пожилом возрасте. Приехала экспертка из Израиля с тематическим исследованием и очень подробно обо всем этом рассказывала.
В последний момент выяснилось, что вести эту секцию придется мне. Я была в шоке: это же «мои» узники и я привыкла видеть их совсем в других обстоятельствах! Было неловко. Думала, что и пожилым людям будет неудобно, может быть, никто даже не придет. (Очевидно, что несмотря на много лет работы в теме я тоже не смогла полностью избавиться от стереотипов.) Однако на эту секцию пришло столько людей, что понадобились дополнительные стулья. А когда время вышло, не хотели расходиться, были активны, задавали вопросы и ничего не стыдились. Если заранее не ожидать от людей определенного поведения и не загонять их в рамки, то они открываются наперекор любым стигмам.
Что не так с «уроками мужества»
— В школе к нам приходили ветераны и много разного рассказывали, но мы не вспомним почти ничего из этих историй. Зато я помню истории, которые были в моей семье. И помню, как однажды учительница беларусского языка рассказывала, как она много километров, прячась, несла мешок соли в партизанский отряд. Я слушала ее и плакала, потому что это была человеческая история.
Например, история Азаричского лагеря ужасает, но если сейчас там проходят митинги, на которых дети в рубашках и пионерских галстуках стоят на холодном ветру, пока взрослые в пальто и шапках произносят свои речи, то как эти дети могут относиться к подобной форме памяти? Это, скорее, отбивает у них желание узнавать больше.
Видела я и «уроки мужества» в школах. Один узник пришел в школу с собственным фильмом, с архивными кадрами, фотографиями и на самом деле очень интересно рассказывал. Но по учительнице было видно, что она не может дождаться, когда эта встреча кончится. А что, глядя на такое отношение учительницы, могут чувствовать дети? Некоторым было интересно, но большинство просто отбывали время.
Сами узники тоже помнят, как рассказывали о войне ветераны. Они прожили жизнь в атмосфере, где ценились героизм и мужество, а не человеческие чувства. И когда узников стали приглашать в школы, они же не думали, что получили эту возможность совсем не потому, что кто-то изменил свое отношение к судьбе узников, а только потому, что ветеранов не осталось, а государству нужно приводить кого-то к детям в своих целях. И вот они приходят и рассказывают те же истории о классной советской армии и классных советских людях. И это совершенно не трогает.
В Беларуси мы дважды организовывали «живые библиотеки», и гости не хотели расходиться. Одна из таких «библиотек» была частью мероприятия для школьников из Германии, Украины и Беларуси, которые путешествовали по местам памяти, а затем рисовали по следам увиденного. В ходе этой мастерской мы сделали «живую библиотеку»*.
Молодые люди слушали трех узников и плакали, а когда через неделю мы подводили итоги встречи, то в один голос заявили, что надо было меньше времени выделять на рисование и больше — на общение с этими людьми. Тут что-то получилось, пошел отклик. Я думаю, это потому, что люди рассказывали истории по-человечески, без пафоса.
Анализ неудобного прошлого — ключ к ответственному будущему
— Мы не переосмыслили прошлое и поэтому наступили на многие грабли. Мы осуждали и осуждаем национал-социализм, но мы не ставили рядом с ним сталинизм, чтобы осмыслить его влияние на нас. Я уверена: то, что мы получили в Беларуси на тридцать лет, — от того, что мы никогда не осмысляли ни Советский Союз, ни сталинизм, ни даже национал-социализм. Мы спорили, мы ссорились, мы обсуждали, но мы не задавались вопросом «Почему так произошло?». И это, пожалуй, самый главный вопрос.
Как могло случиться, что бывшие узники нацизма, которые всегда говорили, что война — это самое страшное и что мы должны сделать всё, чтобы войны не было, в 2022 году пришли к посольству Германии, чтобы выступить в поддержку нападения России на Украину? Как к этому относиться? Это, наверное, трагедия всей моей профессиональной жизни.
Мы запустили YouTube-проект под названием «Оглядываясь на будущее». Да, на будущее нужно оглядываться, потому что всё, что с нами происходит и что нас ждет, уже когда-то было. Нужно оглядываться, чтобы мы были внимательнее и быстрее реагировали на вызовы, а не спали в шапку, пока кто-то захватывает власть и пытается заставить нас жить так, как он решил. Это важно для того, чтобы мы сами за себя принимали решения в будущем и несли ответственность за эти решения.
Когда мы начали делать проект с интервью о примирении, мы прошли несколько кругов в поиске экспертов. Многие отказывались. И не только из-за других профессиональных компетенций. Было ясно, что тема гораздо более чувствительная, чем мы думали. Не все хотят об этом говорить, можно получить массу хейта даже от коллег. И наиболее открытыми к этому оказались люди из Германии — от них не было ни одного отказа, а их интервью были очень интересными, очень критическими. Мне кажется, важную роль здесь сыграло то, что над осмыслением трагического прошлого они провели много времени. Они смогли переступить через себя, чтобы работать с болевыми точками истории, и видят в этом безусловную пользу.
Что пожилые люди могут дать молодым
— Когда ты подходишь к определенному возрасту, начинаешь критически смотреть на прожитые годы. Начинаешь ставить себе оценки, думать, мог ли ты поступить по-другому в какой-то ситуации и как твой выбор повлиял на твое будущее. Что-то в моменте выглядит плохим, а потом ты можешь осознать, что из этого вышло что-то хорошее. И наоборот. С возрастом по-другому смотришь на людей, их поступки, поведение.
Пожилой человек может смотреть на одни и те же события разными глазами, опираясь на свой опыт и знания, которые меняются на протяжении жизни. Он видит события в большом временном промежутке, видит их долгосрочные результаты. Он отражает целую эпоху, даже если его мировоззрение и поведение иногда разочаровывают. Это — большая ценность для общества.
Для молодежи такая мудрость и чужой опыт могут быть в каком-то смысле психодрамой — это когда, общаясь с человеком, ставишь себя на его место, проигрываешь ситуацию и думаешь: «А что сделал бы я? Как бы я рассуждал? Какие чувства у меня были бы?» Благодаря беседам с пожилыми людьми можно научиться не судить с первого взгляда, не делать быстрых выводов, а больше думать и смотреть под разными углами на этот чудесный мир, который намного умнее нас.
О фактах, которые люди узнали за свою жизнь, можно прочитать в книгах. Но когда факты переданы с чувствами и оценками с высоты минувших лет, это по-настоящему ценно.
Авторка: Мария Пархимчик